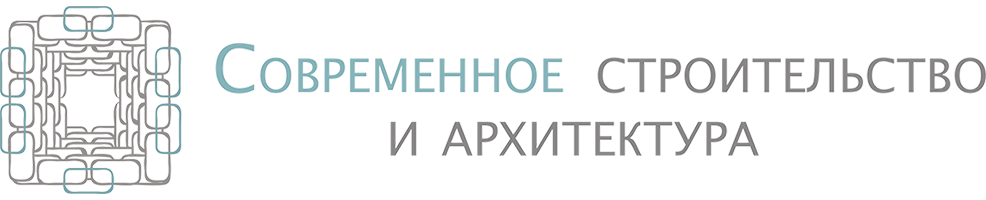Memorial spaces: from antiquity to modern forms
Memorial spaces: from antiquity to modern forms
Abstract
The article examines the development of memorial spaces, starting with the primordial forms of ancient times to the inclusive ones of the early XXI century. Particular attention is paid to changes in both the functional and visual components of memorials, as observed in the United States, Europe, and Russia. As part of the research, the author identifies the main types of memorial forms and clarifies the meaning of the concept of "memorial space". The study emphasises the importance of such territories as instruments for the shaping of collective memory. Memorials not only confirm historical events, but also create new meanings in the context of contemporary society, which make it possible to track social dynamics in the country.
1. Введение
Мемориальные пространства формируют особый городской каркас, в котором переплетается историческая память, художественная репрезентация и повседневные практики горожан. Актуальность особенно заметна в условиях сегодняшней ускоренной урбанизации.
Цель настоящего исследования — проследить эволюцию мемориальных пространств от античности до начала XXI века и выявить механизмы их адаптации к социальным, технологическим и эстетическим изменениям в сравнительном контексте Европы, США и России.
Для достижения этой цели необходимо решить задачи: уточнить понятийное поле «мемориального пространства», рассмотреть типологию и историю возникновения основных форм (обелиск, триумфальная арка, памятник, и т. д.), выявить ключевые этапы трансформации функций и визуальных форм, проанализировать современные проблемы интеграции мемориалов в динамичную городскую среду.
2. Методы и принципы исследования
Исследование опирается на такие методы, как: сравнительно-исторический анализ, синтез, типологическое сопоставление, а также интердисциплинарную связку архитектурной истории с культурной антропологией.
Предметом исследования выступают архитектурно-пространственные формы мемориалов как носители коллективной памяти и средства конструирования городской идентичности.
Объектом исследования является историческая динамика мемориальных форм в мировой практике.
Современная исследовательская литература отражает многомерность проблемы: от классических работ М. Хальбвакса о коллективной памяти и П. Нора о «местах памяти» до новейших исследований урбанистики и digital heritage (Ashworth, 2019; Macdonald & Svašek, 2021). Российский корпус дополняют труды Е. М. Живова, Л. В. Сидорова, А. В. Кириченко, подчёркивающие специфический характер постсоветского мемориального ландшафта.
3. Эволюция мемориального пространства в античности и Средневековье
В античном Средиземноморье практика увековечения памяти изначально развивалась в пространстве полиса, где гражданский статус закреплялся через публичные ритуалы и материальные знаки. Афинская традиция торжественного погребения воинов-ополченцев на керамикосском кладбище и последующая надгробная речь, подобная знаменитому эпитафию Перикла, превращали кладбище в сцену коллективного самоопределения
.Параллельно формировались типы вертикальных памятников, прообразом которых стали египетские текхену IV династии (ок. 2600 г. до н. э.) (рис. 1); монолитная, направленная к небу форма обелиска оказалась настолько выразительной, что римляне охотно встраивали перемещённые архаические столпы в собственные форумы, наделяя их новой политической семантикой победы и императорского величия
.
Рисунок 1 - Обелиск Сесостриса I
Примечание: источник - commons.wikimedia.org

Рисунок 2 - Триумфальная арка Тита на древней Священной дороге
Примечание: источник - commons.wikimedia.org
В позднесредневековой Европе память о военных успехах и гражданских свободах всё чаще переносилась с рыночных площадей к фортификационным узлам города. Так, кирпично-готическая Хольстентор в Любеке (рис. 3), завершённая около 1478 года, маркировала рубеж городской вольности: девиз «concordia domi, foris pax» над пролётом утверждал гармонию внутри и мир вовне, превращая оборонительную браму в монумент гражданского самосознания
. Также Оборонительные ворота становились не просто точкой контроля, а «эпиграфом» к городской истории, куда вписывались имена правителей и даты побед.
Рисунок 3 - Хольстентор - средневековые городские ворота в Любеке
Примечание: источник - commons.wikimedia.org
До нас дошли и материальные «клады» — реликварии с трофейной землёй, оружием или костями святых, которые закладывали в фундамент культовых строений, закрепляя память через сакрализованные депозиты
.К XVI–XVIII векам сакральная монополия на память стала уступать место светским стратегиям. Гигиенические реформы Наполеона I вывели захоронения за пределы городских стен; открытый в 1804 году парижский Пер-Лашез предлагал пейзажный маршрут среди надгробий знаменитостей, совмещая парк, пантеон и коммерческое кладбище. В немецких вольных городах ворота-символы, утратив военное значение, переоборудовали под музеи и выставки, а реставрация Хольстентора в 1860-х предвосхитила включение средневековых брам в индустриальный туристический оборот.
Россия до XVIII века была очень религиозным и изолированным от других стран царством. Это нашло свое отражение в виде строительства храмов в память о сражениях и известных личностях. Это надолго вселяло в память будущих поколений причину постройки. Например, храм Василия Блаженного построенный в Москве связан с завоеванием Казани, а рядом стоящий Казанский собор к капитуляции осаждённых в кремле польско-литовских войск. Также к памятникам завоевания Казанского царства, следует отнести новый тип памятников — многочисленные каменные столбы с иконами, установленные вдоль путей, по которым следовала московская рать
.4. Тенденции мемориальной архитектуры XIX – первой половины XX вв
В Европе XIX века мемориальная архитектура по-прежнему стремилась закрепить в городской панораме идею героического подвига. Парижская Арка де Триумф, заложенная по указу Наполеона в 1806 году и открытая в 1836-м, задумывалась как каменный образ победных бюллетеней Великой армии, а из-за этого стала парадигмой национального монумента, обращённого к будущему через прославление прошлого
.Через десять лет после битвы при Ватерлоо бельгийские и оранжские власти возвели Львиный курган (рис. 4) — искусственный холм с бронзовым львом, завершённый к 1826 году на месте ранения принца Вильгельма; эта земляная глыба фиксировала не столько самого героя, сколько саму топографию события, превращая боевое поле в урок европейского баланса сил. По другую сторону Атлантики подобную функцию взял на себя Мемориал Линкольна, торжественно открытый в Вашингтоне в 1922 году: неоклассический храм с гигантской статуей президента-эмансипатора увязывал гражданскую войну с универсалией равенства, а осевая композиция Национальной аллеи делала прогулку посетителя частью государственной риторики свободы.

Рисунок 4 - Мемориал битвы при Ватерлоо
Примечание: источник - commons.wikimedia.org

Рисунок 5 - Кенотаф на Уайтхолле
Примечание: источник - commons.wikimedia.org
Следующим шагом стала интеграция памятника в рекреационный каркас города. Решающее значение имел доклад Сенатской парк-комиссии США 1902 года (план Макмиллана), который переосмыслил Национальную аллею как непрерывную зелёную ось, скреплённую мемориалами на обоих концах; с тех пор храм Линкольна, пруды-зеркала и будущие мемориальные плацы работали как единый «ландшафт гражданской памяти». Европейские столицы переняли эту практику уже после Первой мировой войны, преобразовав окружения кенотафов и оссуариев в парки тихого отдыха, где аллеи тополей и бассейны наталкивали гуляющих на раздумье, не требуя от них торжественного маршрута
.В досоветском западном каноне, таким образом, чётко прослеживается трёхступенчатая логика: героический монумент формирует национальную мифологию; мемориал жертв переосмысливает войну через коллективную печаль; наконец, парк-мемориал демократизирует сам процесс памяти, превращая его в жизненный ритуал горожан и туристов.
Эта траектория подготовила почву для дальнейших экспериментальных форм послевоенного и постмодернистского периода, когда абстракция и интерактивность окончательно вытеснили авторитарную статую с пьедестала
.В Российской империи утверждение государственной силы проходило через пышную «театрально-триумфальную» среду: на въездах в столичные магистрали возводились арки и обелиски, превращавшие военный успех в непрерывное зрелище. Нарвские ворота в Санкт-Петербурге, впервые собранные из дерева к майскому встречному параду 1814 года, в 1827–1834-х годах были переложены В. П. Стасовым в кирпич и бронзу, чтобы закрепить память о победе над Наполеоном не как событие, а как постоянное качество империи. В Москве ту же функцию выполняла арка на Тверской Заставе, построенная И. О. Бове в 1829–1834-х годах на месте временной деревянной конструкции 1814 года; она становилась театральным прологом к столице, где проезд через пролёт трактовался как участие горожанина в национальном эпосе 1812-го.
Эти сооружения, ориентированные на зрелищное восприятие и ритуал прохождения, задали канон имперского городского пространства, в котором празднование и повседневность сливались в единую декорацию.
После 1917 года вектор памяти резко повернулся к будущему. Ленинский «План монументальной пропаганды», принятый весной 1918-го, требовал насытить улицы временными гипсовыми монументами революционеров и философов; к 1920 году их насчитывалось свыше полутора сотен, а быстрота монтажа важнее долговечности, потому что главное было «выработать у масс новую визуальную азбуку»
.В 1924-м на Красной площади появился деревянный Мавзолей Ленина (рис. 6), заменённый в 1930 году гранитно-лабродоритовым объёмом А. В. Щусева; его ступенчатая композиция совмещает форму шумерской зиккураты с авангардной лаконичностью и одновременно функционировала как трибуна для партийной элиты, превращая выступления в государственный спектакль
. К середине 1930-х акцент сместился на достижения в сфере труда: группа «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной 1937 года стала символом советского павильона в Париже, а затем была перенесена к входу на московскую выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ), открытую в 1939 году как гигантский «парк-каталог» республик и отраслей СССР.
Рисунок 6 - Первый Мавзолей Ленина В.И.
Примечание: источник - tatlin.ru
Пространство строится по принципу кинематографического кадра: вход через арку-портал, перспективная аллея, доминанта на оси. Скульптура становится не автономным объектом, а узлом многослойного нарратива, соединяющим плакаты, лозунги, массовые праздники.
5. Мемориальные пространства конца XX – начала XXI века
К концу XX века глобальный дискурс памяти сместился от выразительной фигуративности к аскетичной, часто тактильной абстракции. В берлинском Мемориале убитым евреям Европы (рис. 7), открытом 10 мая 2005 года, 2711 стел разных размеров образуют комбинацию архитектуры и ландшафта, пространственное поле, через которое перемещается посетитель.

Рисунок 7 - Вид из Министергартена на Мемориал памяти убитых евреев Европы
Примечание: источник - commons.wikimedia.org
Аналогично вашингтонский Мемориал ветеранов Вьетнама (1982) находиться ниже уровня земли. На зеркальной чёрной гранитной плите расположено 58 318 имён, однако и посетитель видит еще кое-что, свое отражение, заставляя проецировать своё присутствие с потерянными жизнями — этот эффект возник не в тексте, а в материальном контакте руки и камня. В Канберре Национальный полицейский мемориал, освящённый 29 сентября 2006 года, представляет из себя 1200 бронзовых табличек, на которых указана информация о погибшем, полируются прикосновениями родственников; так память о риске службы буквально обновляется телесным жестом
.Нарастает стратегия «невидимых» или рассредоточенных мемориалов, встроенных в повседневный городской ландшафт. Самым масштабным стал проект «Stolpersteine» (рис. 8) художника Гюнтера Демнига: с 1992 года по тротуарам Европы уложено свыше 100 000 латунных «камней преткновения» с именами жертв нацизма, и человек, наклоняясь, чтобы прочитать табличку у собственного порога, попадает в неожиданно персонализированный исторический сценарий
.
Рисунок 8 - Stolpersteine для Герты и Александра Адама
Примечание: источник - commons.wikimedia.org
Эти художественные приемы сопровождаются оживлёнными дебатами о «децентрализации» и «дигитализации» памяти. С одной стороны, вертикальные тотальные монументы уступают сети распределённых «точек памяти» — от квартальных стен скорби до онлайн-книг имен, что размывает привязку к конкретному месту памяти. С другой, цифровые технологии предлагают новые форматы: VR-реконструкции сражений, вроде проекта «Battle of Hamel VR» Австралийского военного мемориала (2018), позволяют пережить событие из разных ракурсов, а AR-приложения к Берлинскому комплексу создают мультисенсорные «воронки» личных историй, активируемые телефоном
.Появление таких инструментов переводит спор о том, «как» и «где» помнить, в плоскость программного кода и пользовательских интерфейсов, тем самым окончательно выводя мемориальное пространство за пределы осязаемого камня и закрепляя за ним статус динамичной системы.
Урбанистические вызовы проявляются в стремлении совместить функции рекреации, туризма и интерактивного образования. Например, Московский парк «Зарядье», открытый в сентябре 2017 года на месте снесённой гостиницы «Россия», вписал амфитеатр, медиацентр и «парящий» мост между собором Василия Блаженного и Кремлём, превращая историческое ядро города в гибрид природно-цифрового кластера
.В итоге модель мемориальных пространств начала XXI века балансирует между сохранением монументальной масштабности, разработкой концептуальных художественных решений и интеграцией интерактивных сервисов, которые предлагают пользователю соучастие в актуализации исторического опыта.
6. Результаты
Были изучены этапы развития и появление разных форм мемориалов от древности до современности. В разных уголках мира наблюдались свои особенности, но в конечном итоге они имели одинаковые цели и первоформы. Однако они так или иначе интерпретируются или используются в неизменной форме в новых проектах мемориальных пространств. Основными выявленными формами являются: обелиск, триумфальная арка, памятник, павильон, здание-мемориал, мемориальный комплекс, кенотаф, музейное поле и их возможные комбинации и интерпретации.
С XVI по XVIII века происходит переход от сакральной монополии на память к светским и инклюзивным стратегиям, что находит отражение в изменении функций кладбищ и мемориалов. Мемориалы становятся частью городской инфраструктуры, влияя на поведение и восприятие пространства жителями. Это указывает на то, что мемориальные пространства начинают выполнять не только ритуальные, но и социальные функции, становясь местами для отдыха и размышлений. Таким образом, мемориалы адаптируются к контексту времени и меняющимся общественным настроениям.
Исходя из всего вышесказанного уточним понятие мемориальное пространство — это комплекс физических и символических объектов, предназначенных для сохранения и выражения коллективной памяти о значимых событиях и личностях. Ключевыми элементами являются мемориальные объекты, такие как (памятник, мемориальная плита, обелиск, комплекс мемориальных сооружений, музей, триумфальные арки, ландшафты, кладбища и тд.), которые служат носителями исторической памяти и эмоций, формируя образ и идентичность общества.
7. Заключение
Сравнительный анализ выявил, что мемориальное пространство эволюционировало от античных триумфальных арок, символизировавших могущество победителей, до постмодернистских ансамблей, сосредоточенных на переживании утрат и индивидуальном осмыслении. Средневековые ворота-памятники и кладбищенские клады преобразовали оборонительные и сакральные территории в общественные места памяти, в то время как индустриальная эпоха утвердила двойственную функцию — рекреационную и просветительскую.
В Европе и США XIX–начала XX вв. доминировал героический монумент, позднее трансформировавшийся в траурный парк-мемориал; в России эта логика дополнилась театрально-триумфальной декорацией Петровско-Николаевского времени и монументальной пропагандой советского периода. Конец XX века обозначил глобальный сдвиг к тактильной абстракции и «невидимым» сетевым мемориалам, интегрированным в повседневный ландшафт, а также открыл цифровой горизонт, где память транслируется через VR- и AR-платформы, как это демонстрируют «Stolpersteine» и берлинский Мемориал Холокоста.
Основная проблема, выявленная в исследовании, заключается в увеличивающемся разрыве между коллективной памятью и процессами городского развития. Расширение коммерческой застройки и событийного туризма ставит под угрозу аутентичность исторических слоёв, в то время как ускоренное потребление медиа снижает глубину осмысления прошлого и приводит к появлению новых форм его интерпретации и выражения.
Таким образом, это исследование подчеркивает значимость мемориальных пространств как средств формирования городской идентичности и коллективной памяти. Они не только сохраняют исторические события, но и помогают создавать новые смыслы в контексте современного общества, что делает их важными для понимания культурного наследия и социальной динамики в условиях урбанизации.